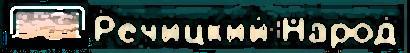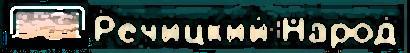По моему хотению.
Я сидел на берегу речки и готовился к уроку по географии. Вдруг среди монотонного шороха воды по заросшему травой перекату возник какой-то странный плеск, будто кто-то стал бить ладошкой по воде. Я вскинул голову и сразу подался вперёд: на травяной мели переката плескалось что-то гибкое и мокрое. Щука! Уловив моё движение, она серебряным колесом покатилась по мелководью назад к глубине, и когда я пришлёпал за ней, разбрызгивая струи переката, она стояла уже в глубокой прозрачной воде, готовая в любой момент сорваться с места.
В ту весну 45-го как-то особенно много шло по течению в половодье перезимовавших щук, словно Бог хотел подкормить изголодавшихся за войну людей своими речными дарами. По дороге в школу вдоль речки часто встречались рыбаки, ставящие верши или сидящие на удобной коряге над водой с охотничьим ружьём, подстерегая полосатую, чтобы оглушить её выстрелом... Эх, как замечательно поддел щуку самодельной острогой наш одноклассник Вовка Урусов на днях, когда мы шли из школы! Он так решительно и красиво шагнул в воду, одновременно метнув своё плотное тело вперёд, что наколол щуку как раз в самый загривок… А у меня ни ружьишка, ни остроги! И снова я испытал острое чувство обиды на судьбу, как в ту первую военную осень, когда гонимые фронтом зайцы натыкались на тебя иной раз по двое. Добыча навстречу, а брать её нечем!
Вот и теперь... Эх, была – не была! Я снял своё видавшее виды пальтишко и превратил его в бредень? Это была весьма сомнительная снасть – растянутое в ширину, оно лежало на поверхности, не торопясь погружаться и оставляя слева заметный просвет с берегом. Я растерянно смотрел на этот просвет, пытаясь погрузить свой «бредень» поглубже, как вдруг на берегу блеснула рыба. И, не давая ей сообразить, куда же ей теперь крутить колесо, чтобы вернуться в родную стихию, я схватил её и забросил далеко-далеко на луг, к удивлению пасшейся там козы, моей Марты. Вот оно что! Этот нежелательный для меня просвет оказался ловушкой для щуки: она рванула в него с такой бешеной скоростью, что выскочила на берег, который в этом месте делал резкий поворот.
Дома, сбросив всё мокрое, а мокрое на мне было всё, я залез в постель, чтобы согреться, а мама жарила щуку, радуясь вместе со мной и опасаясь – не простужусь ли? Щука была поменьше той, что наколол Вовка. И всё же это был не какой-нибудь там щурёнок, каких мы ловили корзинками, а большая щука. Таких никто без снасти не ловил.
Через несколько дней я снова пригнал козу пастись к речке на то же самое место. Раззадоренный недавней удачей, я прохаживался по берегу, уже вглядываясь прицельно в глубину нашей Коняшинки, хотя и понимал наивность надежды на повтор. Но вдруг чуть выше по течению, у омута с тёмной водой я заметил на дне что-то странно полосатое, похожее на палку. Когда же сбоку на «палке» я разглядел плавник, сердце сладко заныло. Оба конца «палки» терялись в водорослях, и воображение тут же представило щуку с руку. Видно, поверив в магическую силу своего пальтишки, я, не мешкая, снял его и, расправив над водой, плюхнулся с ним в воду, пытаясь накрыть щуку. Но сачок из него не получился – слишком шумно и медленно он опускался на дно, и щука успела выскользнуть. Я грустно смотрел на омут, куда ушла моя щука, уже не надеясь ни на что, как вдруг из омута ко мне что-то булькнуло под водой, будто пронырнуло в мою сторону. Догадка была слишком невероятной, чтобы в неё можно было поверить, но так оно и есть! Вспугнутая мною щука стояла на том же самом месте, и медленно оседавшая муть маскировала её на фоне песчаного дна. Какова военная хитрость?! Она решила сбить с толку врага, вернувшись на старое место, используя поднятую мною муть как дымовую завесу. Я с восхищением смотрел на хитрую рыбу, и чем яснее становилась вода, тем яснее понимал, что руками, тем более голыми, её не возьмёшь. Тут нужны ноги!
Я вспомнил, как часто попадали под ноги щурята, когда их ловили корзинками в мутной воде. Нога вообще стремительней и сильнее руки! А на моих ногах к тому же были широкие американские ботинки, подарок старшего брата, - солдатские чоботы, отслужившие свой срок в армии. Их, наверное, прислали по ленд-лизу вместе с «Виллисами», «Студебеккерами» и яичным порошком...
Не дожидаясь, когда муть рассеется полностью, я поднял ногу над притаившейся щукой и резко наступил вниз. Выскользнуть она не успела. Хитрая рыба перехитрила самоё себя.
Казалось бы, чего ещё желать? Но троицелюбивый Бог послал мне ещё одну. В той же заводи у переката. Было уже к лету, вода спала, и не составляло большого труда по мелководью с двух сторон отгородить это «рыбное угодье» земляными перемычками. Потом круто замутить воду и дождаться когда щука высунет нос...
В ту весну 45-го у меня было много радостей… И общая радость Победы со вспышками салюта и красками праздничного убранства, и это сказочное везение, когда к тебе, лишённому каких бы то ни было снастей, рыба, словно по твоему хотению, сама выпрыгивает на берег или, вспугнутая неудачной попыткой взять её голыми руками, возвращается на прежнее место, любезно подставляя себя под твой ленд-лизовский башмак.
В годы войны.
Война для нас началась с бегания в контору к газете, где печатали сводки с фронта.
-Ну что, не отбросили ещё немцев? Ведь дан приказ отбить их с нашей территории...
Но в сводках продолжали сообщать об отступлении Красной Армии, и надежды на скорый исход войны постепенно таяли. Всем жителям санатория раздали противогазы, в ходу были брошюрки про иприт и люизит и средства защиты от них. Пошли разговоры о бомбёжках: к Москве не допустят, уверенно говорили многие.
А после первого налёта на Москву в июле скоростным порядком вырыли в разных концах санаторской территории бомбоубежища-землянки и «щели» – траншеи, ничем не укрытые сверху.
Больных детей в санатории становилось всё меньше. Новых не поступало, поговаривали об эвакуации. Не дождавшись её, в одну из ночей исчез директор Луцет.
- Вы уезжаете? – спросила его взволнованная главврач.
- Нет, нет! Что вы? Я только отправлю жену и ребёнка с санаторием «Красная роза» и вернусь.
Но он не вернулся. И стали мы жить без директора и без многих рядовых сотрудников. Правда, уехавших совсем в другую сторону, не на восток, как директор, а на запад – под бомбы немецких самолётов, под гусеницы их танков. Ушли на фронт истопник, дворник, механик, кладовщик, завхоз. В 45-ом из них вернулся только один.
Но жизнь продолжалась, хотя угроза всё время росла. В одну из августовских ночей мы дежурили с мамой на веранде. Помню, я мучительно пытался заснуть, но сквозь полудрёму назойливо жужжал какой-то высоко летящий самолётик. А что если... - но не успел я додумать до конца, как за стёклами веранды что-то ухнуло, и взметнулись два ослепительных фонтана фосфорического огня, завораживая и пугая одновременно. Зажигалки?! Ну всё! Сейчас бросит фугаску!
Я выскочил на крыльцо и не поверил тому, что вижу: всё поле от нашей опушки до Гжели было сплошным огнём, а перед главным корпусом санатория горели, постреливая голубоватым пламенем, две зажигательных бомбы. А возле них уже орудовал наш комендант Сергей Иванович Якушин. Он брызгал из ведра на них берёзовым веником, отчего бомбы ещё больше ярились и фыркали. Тогда он присыпал их песком.
Наутро только и разговоров было, что о зажигалках. Говорили, что немецкий самолёт, скорее всего, удирал от наших истребителей, почему и сыпанул бомбы как горох во чисто поле, лишь бы побыстрее освободиться от груза. На санаторий упали три последние бомбы из этого «высева». И лишь одна из них попала в цель – пробила крышу изолятора, угодив в толстый слой песка на его чердаке. Её быстро обезвредили.
Картофельное поле от нас в сторону Гжели оказалось сплошь усеянным огарками зажигалок. От них исходил острый карбидный запах. Эти огарки казались нам совершенно бесполезными. Мы тогда ещё не знали, что если их подержать в костре, а потом выкатить на лужок и дубасить палками, эти огарки взрываются фосфорическим фейерверком, вполне безопасным, если дубина у тебя достаточно длинная, а сам ты увёртлив и ловок. Позднее мы забавлялись этим вовсю. Но в тот первый день мы этого ещё не знали и мечтали только найти целую, не взорвавшуюся, такую, как пронесла мимо нас одна девушка. Она несла её полузавёрнутой в газету, но было видно, что её серебристое цилиндрическое тело довольно длинное, не то, что эти огрызки.
С осени сорок первого наш санаторий стал служить опорным пунктом для воинских частей. В административном здании с мансардой, по соседству с домом сотрудников, обычно располагались штабы. Первым обосновался здесь штаб формируемой заново стрелковой дивизии. Судя по всему, новую дивизию должны были составить остатки нескольких обескровленных в боях частей. Обмундирование на прибывающих в нашу дивизию было изношенным и устаревшим. Его меняли на новое и нам, пацанам, к великой нашей радости досталось многое из того, что уже отслужило бойцам. Дмитрий Иванович, пожилой красноармеец из комендантского взвода, подарил мне серую байковую будёновку. Я так старательно мылил её, отстирывая солдатский пот, что потом до конца выполоскать будёновку так и не смог, и она долго испускала аромат хозяйственного мыла. Другой боец, тоже из пожилых подарил мне пилотку, которую я проносил всю войну и дорожил ею несказанно. Даже когда её пожевал бык, насладившись солёненьким потом, впитанным ею с моей головы, я не выбросил пилотку, а тщательно заштопал следы бычьих зубов и продолжал носить. Эти шлемы и пилотки мы берегли как реликвии.
А тучи войны всё сгущались. Докатились слухи о панике в Москве 16-го октября и вести об осадном положении. В один из суровых октябрьских дней забрели мы с ребятами на скотный двор у речки. Стоим возле домика скотников, смотрим в серую даль. И вдруг из-за речки, едва не касаясь деревьев, прямо на нас – самолёт. Красивый стеклянный фюзеляж… А мы как кролики на удава, уставились на его чёрно-белые кресты, не в силах ни стронуться с места, ни хотя бы броситься на землю.
«Ну, всё... сейчас из пулемёта... по живым целям…- мелькнуло в голове». Об этом столько писали в газетах! Но очереди не последовало. «Юнкерс» проплыл между нашими головами и, круто осев на левое крыло, развернулся и ушёл туда же, откуда появился. И тут же, откуда торопясь перекрыть друг друга, грохнули три взрыва. Всё содрогнулось вокруг и внутри нас, а стёкла в домике звякнули таким дребезгом, какого никогда не слышал ни до, ни после этого. Очнувшись от оторопи, мы как по команде бросились гурьбой к речке. Куда там попало? Впопыхах замочили ноги, но это только прибавило нам азарта и прыти. И полтора километра по лесному заречью до станции Гжель мы замахнули за спину шутя.
...Перед станционным зданием на асфальтированной площадке зияла огромная воронка с размётанными вокруг кусками асфальта. А само здание превратилось в какие-то странные ворота: остались только боковые стены и поникшая между ними крыша. Вторая бомба всплеснула песок из-под запасного пути, не повредив основных, на которых стояли воинские эшелоны. Воронки от третьего взрыва мы не нашли. Наверное, бомба была дефектная – между путями лежала огромная глыба металла, которую не то, что поднять – даже сдвинуть с места мы не могли.
На первом пути стоял эшелон с танками. В них-то, наверное, и метил немецкий лётчик. Танки были лёгкие, старого образца – с перильцами на башнях. При них, с красными, обветренными лицами сидели, стояли и прохаживались военные в тулупах. Все были в каком-то приподнятом, даже весёлом настроении: три бомбы! И легли-то они в цель, а никто не пострадал! В станционном здании в момент бомбёжки никого не было. И ни капли крови не пролилось! Словно чья-то невидимая рука отвратила беду и укрепила веру, что так вот и будет дальше – летай, не летай над нами со своей устрашающей свастикой. Радостно возбуждённые, вернулись мы к себе в санаторий.
В то июньское утро я воевал с быком. Бык был молодой и непривычный к стаду, в каждом удобном случае он норовил удрать. Но я становился у него на пути, почти как солдат перед танком, чувствуя спиной холодок. Бык опускал голову и тупо глядел из подлобья, но я не уступал, вопил и грозил кнутом, пока тот не поворачивал к стаду. Но даже в пылу борьбы с быком я обратил внимание, что рокот, начавшийся с утра где-то в стороне от Гжели, всё не смолкает. Время пахоты давно прошло. Да и не похож этот раскатистый грозный гул моторов на безмятежный рокот тракторов.
А это были... танки. Они шли по Егорьевскому шоссе, через станцию Гжель и дальше, через Коняшино, - к нашему санаторию. Их разместили на опушке в редколесье за полями орошения. И снова соседнее здание с мансардой превратилось в штаб. Зазвонили телефоны, зазвучали команды. Это была отборная войсковая часть, прибывшая из-под Сталинграда. У всех гвардейские значки. У многих ордена и медали. Вот уж кого можно было назвать бравыми! Они представляли разительный контраст с теми, кто пришёл к нам осенью 41-го. Тем пришлось отступать, изведать горечь поражений. А эти были победители. И всё у них было победительным – голоса, взгляды, жесты...
Под стать гвардейцам-танкистам были и их танки – красивые, могучие – не в пример тем субтильным, с перильцами, которые бомбил «Юнкерс» в 41-м на станции Гжель. Нынешние стояли в отрытых для них ямах, слегка приподняв стволы орудий с насадками для точности стрельбы, которые делали их ещё более внушительными. Маскировали танкисты свои машины вырубленными из подлеска деревцами.
А потом умчались танки в огонь Курской битвы – за нашу великую Родину и мою малую – этот благословенный уголок русской земли под названием санаторий «Коняшино», где танкисты набирались сил для грядущих боёв в то славное лето сорок третьего. |